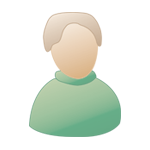Юрий Нагибин. Из Дневника. Белла Ч. 2
Памяти Беллы Ахмадулиной
20 января 1962 г.
Печальная прогулка днем с Геллой (Белла Ахмадулина). У меня повышено давление, болит затылок и лоб, перед глазами реет паутинка (Лена как-то сказала, что это от малокровия), да и сердце бьется вяло, отчего всё тело лишено упругости. День серый, без теней и бликов, падает редкий снег.
Повстречали жалкого охотника с одноствольным ружьем. Оказывается, в наших местах водятся рябчики и зайцы. Но сегодня он ничего не убил, да и вчера тоже. Рябчики зарываются в снег, без собаки их не подымешь. У него, правда, есть собака, но плохо работает. Что-то все и всё сейчас плохо работают: собаки, мое сердце и мозг, наши писатели и деятели, крестьяне, шоферы, водопроводчики, печники и печи, дверные замки и электрические бритвы, проигрыватели и магнитофоны, редакции и почта, и особенно – портные… Усталость, что ли? Усталость живой и мертвой материи?…
Хорош был лишь снегирь на ветке бузины, и тот улетел, едва мы его заметили, тоже не хотел сработать на радость нам.
Великое бесстрашие в авантюрной политике, в игре со стронцием, в попрании всех человеческих прав, даже прав желудка, и детский страх перед двумя строчками в рассказе, который никто не прочтет. Неужели литература, действительно, так могущественна?
28 мая 1962 г.
Сейчас чудесный жаркий подвечер, мощно пахнут три ландыша, а на улице запах яблоневого цвета. Тюльпаны так широко раскрыли свои чашечки, что уподобились гигантским ромашкам, бесстрашно скачут возле веранды стройные скворцы, то загудит шмель, то заноет самолетом оса, то зажужжит большая муха с глянцевой зеленой спинкой, то ударится о стекло пулей на излёте янтарный майский жук. Рай да и только!…
А в наполненном цветами, прохладно распахнутом на все четыре стороны доме мечется в сердечном спазме, с мокрым от слёз, разбитым в синь мною личиком, в коротких штанишках и полосатой кофточке Гелла, исходят последней, предсмертной добротой к своим больным детям мама и Я. С, и я, пропичканный всеми лекарствами, несчастный и всё же грубый, бедный душой от бесконечного пьянства, сижу и пишу эти строки.
Так я отпраздновал свою «великую» беду – неотъезд в Японию. Я давно начал этот праздник, ибо со свойственной мне зверьевой, сверхчеловеческой чуткостью уже месяца полтора назад угадал, что не поеду. И тогда уже я перестал писать, утратив все слова, кроме самых злобных. Я дошел до края, я стал чумой не только для близких: мамы, Геллы, Я. С, но и для всех, кто ко мне приближался. Я доканал жалкого, вечно пьяного Тольку. Я сломал даже партийного босса Виля*. Хватит, пора вернуть себе человеческое лицо.
Слова, слова, вернитесь ко мне, спасите меня!…
Мой сон в грязной постели, запятнанной собачьей дактилоскопией, залитой чаем и кофе, с Геллой, которая по утрам становится фурией от неврастенической боязни недоспать, я называю «Морфей в аду».
26 декабря 1962 г.
Подведем итоги в близости финиша этого странного и сложного года. Сделаем это по методу Моиза из «Бэллы» Жироду. Я издал толстую книгу в «Московском рабочем», но мой Трубников не вышел и вряд ли выйдет. Я написал кучу сценариев и заработал много денег, но сценарии, кроме короткометражки, пока что не ставятся, а деньги израсходованы. Я не поехал в Японию, но съездил в Грецию и Египет, побывал в Константинополе. Я написал три хороших рассказа, но лишь один напечатал, да и тот, как всё у меня, прошел незамеченным. Я ездил в Прибалтику, но отдых был отравлен неопрятной четой Шределей и гнусным письмом Орловского в «Литературке». Я виделся со множеством корреспондентов и разного рода приезжими людьми, но, за ничтожным исключением, их интересовала Гелла, а не я.
Я самая большая сволочь на свете. Мне позвонили в Москву и сказали, что заболел Проня. Но я пьянствовал и не прислал врача. Я подло придрался к тому, что в какой-то момент Гелла сказала, будто Проне стало лучше.
Врач приехал лишь на следующий день, сделал все ритуальные действия, и к вечеру Прони не стало.
Я ждал от себя чего угодно, но не такого подлого предательства. Я предал своего младшего бессловесного братика, доверившего мне свою жизнь, когда крошечным комочком, почти умещавшимся в моей варежке, он поехал со мной от теплого бока матери. Хорошо же я послужил ему, хорошо выполнил свой малый долг.
Вот оно и пришло – самое скверное, самое страшное. Я не знаю, что там было, может быть, не так уж много, может быть, совсем немного. Но коль пусть даже такое возможно при мне, что же делали с этой несчастной женщиной, когда меня не было рядом, а она была так же пьяна? Каким стыдом, позором овеяна вся моя жизнь с ней?
Я никогда не думал, что мне будет так больно. Конечно, я ее любил и люблю, как не любил никого, и теперь мне придется жить без нее, и я не понимаю, как это будет. На сердце такая тяжесть, что впору кричать. Недавно я считал себя самым счастливым человеком на свете, хорошо хоть, что я знал это. Уж никогда не будет мне так полно, так интересно, так упоительно, как было с ней. Есть хорошие женщины, их не так мало, есть даже очень хорошие и трогательные женщины, но всё это не идет в сравнение с ней. Она прекрасно и страстно говорила. Она была очень похожа на меня, даже в пороках, и я всегда понимал, что с ней происходит, хотя из педагогических соображений порой делал вид, будто чего-то не понимаю. Ее вранье не было враньем в обычном смысле слова, ей хотелось быть такой вот чистой, преданной, высокой, жертвенной. Она не была ни чистой, ни верной, ни жертвенной; дурное воспитание, алкоголизм, богема, развращающее влияние первого мужа, среда ли изуродовали ее личность, но ей хотелось быть другой, и она врала не мне, а себе, когда с пафосом уверяла меня в своей непорочности в отношении меня.
Это ужасно, то, что случилось, по невыносимой вульгарности, плоской грубости. Как справлюсь я со всем этим, да и справлюсь ли?
Почему все виды унижений выпадают мне на долю? Литературные, общественные, а вот теперь и личные?
Хорошо, что разбил ей лицо, хорошо, что разбил голову бутылкой Л., по крайней мере, во мне хоть нет раздавленности. А в остальном – страшно, страшно. Нет желания жить. Всё стало ненужным: дача, фильмы, книги, деньги, строительство. Полное банкротство. И странно, у меня нет настоящей злобы ни к Л., ни даже к ней. Жалость есть. Ей будет плохо, хуже, чем мне, она вконец опустится и погибнет.
Быть может, я должен был пройти мимо этого, ведь я отвечаю за нее. И я бы поступил так, если б был уверен, что это – от силы, а не от слабости. Ибо в первом случае жизнь могла бы наладиться, а во втором – полный раздрызг.
Что же делать? Может, постараться провести этот новый мучительный бой за себя с достоинством, пережить это со всей болью, без самообмана и ложного самолюбия, но и без соплей, без жалких поступков, чтобы, не стыдясь, вспомнить потом о самом тяжком периоде моей жизни?
Вот оно и пришло – самое скверное, самое страшное. Я не знаю, что там было, может быть, не так уж много, может быть, совсем немного. Но коль пусть даже такое возможно при мне, что же делали с этой несчастной женщиной, когда меня не было рядом, а она была так же пьяна? Каким стыдом, позором овеяна вся моя жизнь с ней?
Я никогда не думал, что мне будет так больно. Конечно, я ее любил и люблю, как не любил никого, и теперь мне придется жить без нее, и я не понимаю, как это будет. На сердце такая тяжесть, что впору кричать. Недавно я считал себя самым счастливым человеком на свете, хорошо хоть, что я знал это. Уж никогда не будет мне так полно, так интересно, так упоительно, как было с ней. Есть хорошие женщины, их не так мало, есть даже очень хорошие и трогательные женщины, но всё это не идет в сравнение с ней. Она прекрасно и страстно говорила. Она была очень похожа на меня, даже в пороках, и я всегда понимал, что с ней происходит, хотя из педагогических соображений порой делал вид, будто чего-то не понимаю. Ее вранье не было враньем в обычном смысле слова, ей хотелось быть такой вот чистой, преданной, высокой, жертвенной. Она не была ни чистой, ни верной, ни жертвенной; дурное воспитание, алкоголизм, богема, развращающее влияние первого мужа, среда ли изуродовали ее личность, но ей хотелось быть другой, и она врала не мне, а себе, когда с пафосом уверяла меня в своей непорочности в отношении меня.
Это ужасно, то, что случилось, по невыносимой вульгарности, плоской грубости. Как справлюсь я со всем этим, да и справлюсь ли?
Почему все виды унижений выпадают мне на долю? Литературные, общественные, а вот теперь и личные?
Хорошо, что разбил ей лицо, хорошо, что разбил голову бутылкой Л., по крайней мере, во мне хоть нет раздавленности. А в остальном – страшно, страшно. Нет желания жить. Всё стало ненужным: дача, фильмы, книги, деньги, строительство. Полное банкротство. И странно, у меня нет настоящей злобы ни к Л., ни даже к ней. Жалость есть. Ей будет плохо, хуже, чем мне, она вконец опустится и погибнет.
Быть может, я должен был пройти мимо этого, ведь я отвечаю за нее. И я бы поступил так, если б был уверен, что это – от силы, а не от слабости. Ибо в первом случае жизнь могла бы наладиться, а во втором – полный раздрызг.
Что же делать? Может, постараться провести этот новый мучительный бой за себя с достоинством, пережить это со всей болью, без самообмана и ложного самолюбия, но и без соплей, без жалких поступков, чтобы, не стыдясь, вспомнить потом о самом тяжком периоде моей жизни?
Сегодня всё еще хуже. Пошел гулять по обычному маршруту, но от всего – чудовищная боль. Желтый лес, навстречу идет стадо: коровы, овцы. Пастух тащит кнут по земле. Пролетели два стареньких сельскохозяйственных самолета. А из глаз точит и точит. Я, действительно, потерял то, что делало меня счастливым. Это не потеря женщины, все они взаимозаменимы, все, кроме одной единственной. Очень редко бывает, что человек находит эту единственную женщину, но вот тогда-то потеря так страшна и невыносима, что хочется орать.
Идет снег на еще зеленые листья яблонь, на красные яблоки, на траву и сирень, на флоксы и георгины, на желтые березы. Я сижу с заплаканной рожей и думаю, как жить мне завтра и послепослезавтра, как перетерпеть!
А что если она и впрямь душевнобольная? Ну и пусть живет рядом: больная, сумасшедшая, гниющая заживо. В редкие моменты ее просветления я все-таки буду счастливей, чем в светлой, трезвой, распрекрасной жизни с другой женщиной.
Если сходятся люди, которые любят друг друга, то у них всё должно быть на жизнь и смерть, и нет такой вещи, которой нельзя было бы простить. Я чувствовал ее как часть самого себя, вернее, как продолжение себя. Совершенно естественно, что это продолжение должно быть наделено всеми моими отвратительными качествами: распутством, распущенностью, склонностью к оргиям и к пьянству, особой бытовой лживостью при какой-то глубинной правдивости натуры, гибельностью, неумением быть счастливым.
Один американский врач лечил, вернее, выправлял сумасшедших тем, что, не пытаясь проникнуть в существо болезни, прививал им нормальные реакции, нормальное внешнее поведение. Мне всегда это казалось страшной ложью. Ведь за этой «нормальностью» всё равно остаются больные души, больная психика, омраченность которой загнана еще глубже. Уж лучше оставить больным их буйство. Нечто подобное происходит сейчас со мной. Я заставляю себя все делать как нормальный: есть, спать, гулять, садиться к столу и кропать что-то жалкое, выполнять свои многочисленные кино- и литературные обязательства, даже слушать музыку, но, быть может, легче и лучше было бы мне буйствовать, съехать со всех катушек.
Всё время в памяти тот снежный, морозный вечер, когда мы вышли за ворота, и она подпрыгивала от радости, и поминутно падала, без неуклюжести, но чуть растерянно и обиженно, словно кто-то незримый подставлял ей ногу. Боже мой, как же мы были тогда счастливы, и как же могли всё это так пошло растерять!
Хорошо я сейчас живу, по расписанию, которого придерживаюсь с гётевским высоким педантизмом. Работа, прогулки, слёзы чередуются с механической четкостью. Работаю в утренние, дневные, вечерние часы, гуляю три раза в день, столько же раз плачу, два раза в день сплю по пятнадцать-двадцать минут; от трех до пяти, в переломе дня, испытываю отчаяние, душное, как сердечный спазм; дважды в день как-то странно ликую от надежды, что выдержу, выживу, и наконец – смертная печаль предсонья, затем – клаустрофобия и бессонница.
Сколько же мне еще так мучиться, Господи? Неужели силой боли я хоть немного не выигрываю в длительности?
А можно так устать от тоски и душевной угнетенности, что это будет как выздоровление? Вот сейчас я вдруг почувствовал, что не могу испытывать боли, сил нет. Но скорее всего это ненадолго, отдохнешь – и опять всё нахлынет.
Кажется,- дай-то Бог!- все мои переживания начинают вырождаться в спасительную бытовую злобу. Этому помогло ее «высокоюридическое» письмо.
Я не записывал ничего почти два дня – добрый знак! Ужас расставания начинает, кажется, замещаться во мне здоровым чувством оскорбленности, злости и некоторым самозащитным ликованием. Если это правда, что творится во мне, а я еще не знаю – правда ли, то я на добром пути, надо бы не оплошать. Еще немного твердости и холода, и я буду навеки спасен. Я спасу себя от бездны сложностей, огорчений, неминуемых новых оскорблений, дурной молвы, от тайной злобы, которая неизбежно явится тенью вынужденного смирения, от «вторости», на которую я сам себя обрекаю своей деликатностью и любовью к прекрасному дару плохого человека. Но если я опять поддамся, освободиться будет во сто раз труднее. Ведь к унижениям тоже привыкаешь, как и ко всему прочему. Держись, старик!
Мы опять вместе.

 ...............................
...............................